Ханс Ульрих Обрист. Краткая история новой музыки. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015
В рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и издательства «Ад Маргинем Пресс» вышла «Краткая история новой музыки» (в переводе Светланы Кузнецовой) — сборник бесед куратора Ханса Ульриха Обриста с выдающимися композиторами нашего времени. С любезного разрешения Музея Гараж «Артгид» дарит своим читателям беседу Обриста с одним из самых важных композиторов XX века Карлхайнцем Штокхаузеном (1928–2007). Штокхаузен получил признание благодаря своим прогрессивным идеям в области серийной техники композиции и электронной музыки, экспериментам с графической записью партитур и пространственным размещением источников звука — например, в его произведении для четырехканальной акустической системы Gesang der Jünglinge («Песнь отроков», 1955–1956). Всего за свою жизнь немецкий композитор создал более 375 произведений, в числе которых состоящая из семи частей (по количеству дней недели) Licht («Свет», 1977–2003).
 Карлхайнц Штокхаузен. 1980. Фото: Claude Truong-Ngoc
Карлхайнц Штокхаузен. 1980. Фото: Claude Truong-Ngoc
Ханс Ульрих Обрист: Многие архитекторы и художники интересуются тем, как вы в своих работах соотносите время со светом. Над оперой «Свет», которую собирались поставить в Руре, вы работали почти 25 лет. Можете рассказать об этом 25-летнем творческом процессе? Ведь это все-таки очень большой срок для написания одного произведения.
Карлхайнц Штокхаузен: Я писал электронную композицию «Песнь отроков» в Студии электронной музыки Западной Германии (WDR) два года: с 1954-го по 1956-й. Все это время я по-разному комбинировал голос юноши с электронными звуками и размножал варианты сочетаний. В итоге я два года работал над 14 минутами музыки. По восемь-девять часов в день на протяжении трех или четырех месяцев я писал мой первый электронный этюд «Studie I» («Этюд I», 1953), который длится 9 минут 50 секунд. «Studie II» идет всего три минуты, но и его создание заняло несколько месяцев. Последующие работы требовали все больше и больше времени. «Sirius» («Сириус», 1975–1977) — 96 минут электронной музыки с вокальными партиями для четырех солистов — я писал почти три года. Премьеры его частей прошли отдельно. Первая 45-минутная секция была впервые представлена в Вашингтоне, а последующие сыграны в Токио, Экс-ан-Провансе, Кельне и Бонне, пока, наконец, композиция не была сыграна целиком. Отдельные произведения, вроде «Инори (Поклонение) для одного (двух) солистов и оркестра» («Inori», 1973–1974), я, как правило, писал в течение года. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что, наметив общий план «Света», я выделил на создание каждой его части по четыре года, а всего частей семь. Я бы скорее сказал, просто поразительно, что я уложился в 25 лет. Если учесть все еще не представленную заключительную часть, «Licht-Bilder» («Образы света»), то это все 27 лет. Вместе с подготовительным этапом получилось трижды по девять или почти четырежды по семь лет. Важно накопить опыт, чтобы представлять, сколько займет работа над тем или иным произведением. В 1960-х я много раз говорил, что не хочу больше писать отдельные композиции. По правде сказать, мне стала чужда эта традиция сочинения музыки; я считаю, что в идеале нужно посвятить всю жизнь одному произведению. Со временем меня все больше увлекал такой подход: я развиваю произведение из зародыша и в нескольких частях раскрываю все формы, которые оно может принять. В 1956–1957 годах многие мои соратники на музыкальном поприще спрашивали у меня с большой долей критики и иронии: почему я целых три года работал над «Gruppen Fur Drei Orchester» («Группами для трех оркестров») и как вышло, что они длятся всего 25 минут? Это было очень необычно. Мои знакомые композиторы все еще пишут произведения из шести, семи, восьми или девяти частей, которые представляют собой сюиты, очевидно различные по характеру и техническому воплощению. Но передо мной уже на ранних этапах творчества стояла иная задача: при помощи музыки создать пространство, в котором могли бы найти место и взаимодействовать между собой любые идеи и материалы. Другими словами, ты не просто делишь произведения на куски и, отрезая, начинаешь в другом месте, а постоянно продолжаешь работать над тем, что однажды начал.
ХУО: Можно ли сказать, что к созданию «Света» вас подтолкнул Шри Ауробиндо?[1]
КШ: Определенно. Еще в 1970-х годах я писал произведения, в центре которых стоял конфликт между Михаилом, мыслителем, указующим путь вселенной, и Люцифером, антагонистом, отказавшимся от Бога, потому что именно этот конфликт традиционно порождал и порождает полемику и большую часть произведений искусства. Я мечтал написать великое произведение, которое родилось бы в противостоянии этих двух космических сил. Книгу о Шри Ауробиндо мне дал студент моего семинара по композиции, когда я преподавал в Калифорнии в 1966 году. В 1971 году на премьере «Hymnen» («Гимнов для оркестра») в нью-йоркском Зале филармонии я дирижировал Нью-йоркским симфоническим оркестром и четырьмя солистами, приехавшими со мной из Германии. Сразу после концерта какой-то странного вида человек стал с большим воодушевлением предлагать мне одну книгу («Книга Урантии»). Меня смутили его громкие возгласы, и я провел его в гримерку. Там он за девять долларов продал мне книгу и наедине сказал, что на меня возложена миссия отобрать из всей музыки, созданной на этой планете, ту, что будут транслировать в космос через мощнейший передатчик где-то в Андах. Я отказался от предложения; у меня на ближайшее время хватало интересных проектов, и я посоветовал ему поискать кого-то еще. Книга после этого пылилась у меня в шкафу до 1974 года. Потом я вдруг вспомнил о ней и прочел первую главу о сотворении космоса. Автор утверждал, что служит лишь медиумом для записи текста. В книге было много конкретных имен и дат, так что во мне проснулся живой интерес. Еще в ней была очень важная глава о том, как святой Михаил воплотился в Христа. Меня крайне увлекла эта теория. Я рос в Альтенберге, и фигура святого Михаила играла ключевую роль в моих юношеских воспоминаниях. Я всегда в соборе молился святому Михаилу и в 1970-х написал много произведений, связующих Михаила и Иисуса Христа. В этом смысле книга была очень интересна. Остальное, что происходит в «Свете», — это моя личная интерпретация отношений между тремя космическими сущностями: Михаил — Ева — Люцифер, которые, по моему убеждению, играют определяющую роль в наших жизнях. Не в том смысле, что мы полностью зависим от них и индивидуум не обладает личной свободой, — они скорее направляют нас. Даже сейчас я каждый день молюсь святому Михаилу и прошу его даровать гармонию подвластной ему вселенной, обуздать ее чудовищные конфликты, особенно на нашей планете. Таковы мои мысли о Земле в целом, а технически мои музыкальные нововведения рождались на основе накопленного опыта. Мои ранние произведения 1950–1951 годов помогли формированию идеи серийной музыки. Она явилась результатом кропотливой работы и положила начало нашей традиции, и, на мой взгляд, такое было возможно только в Кельне. Из серийной музыки выросла интуитивная музыка, которая подразумевает свободное, бессистемное сочинение. Затем родилась «формульная композиция». Но еще до этого я написал два очень важных произведения: «Pole» («Поляки») для двух исполнителей и «Expo» («Экспо») для трех исполнителей. В 1977 году я создал то, что называется «супер-формулой»[2], на которой основана вся опера «Свет».
ХУО: На прошлой неделе я беседовал с Франсуа Бейлем. Он рассказывал мне о 1952 годе, когда парижские музыкальные открытия настолько будоражили воображение, что он просто не мог спать. Он говорил, что всегда считал вас важнейшим современным композитором. Расскажите о том, как для вас все началось.
КШ: Я учился играть на фортепиано в Музыкальной академии, и меня увлекало все, что связано с новыми методами написания музыки. В Музыкальной академии (Высшая музыкальная школа, Кельн) читали лекции композиторы, работавшие в технике додекафонии, и я с интересом ходил на эти лекции. Герберт Аймерт, критик из Кельна, посоветовал мне съездить в Дармштадт[3]. Я познакомился с ним, когда выступал в одном музыкальном театре. Он спросил, чем я занимаюсь, и я сказал, что уже год работаю над диссертацией о «Сонате для двух фортепиано и перкуссии» (1937) Белы Бартока. Я исследовал эту сонату досконально, как физик изучает свойства материала на атомном уровне. Мне требовалось уяснить до мельчайших деталей, как Барток написал свое произведение. Через него я познакомился с додекафонией. И Герберт Аймерт сказал: «Тебе определенно нужно сделать выпуск вечерней передачи о своей диссертации». Потом он спросил, пишу ли я что-то сам. Я ответил, что да, и показал ему «Kreuzspiel» («Перекрестную игру»), которой я дирижировал в декабре 1951 года во время записи на радио. Так началась иная музыка. До этого я писал скорее некую экспрессивную музыку, четко построенную по принципам додекафонии, например «Sonatine» для скрипки и фортепиано (1951), или 12-тоновый «Chorale» (1950), но это уже переходная композиция от традиционной эмоциональной музыки, какую писал, например, мой преподаватель Франк Мартин[4]. Бывало, я наблюдал за тем, как он пишет. Скажем, когда он сочинял «Golgothe» («Голгофу», 1945–1948), он садился за фортепиано, играл то, что сочинил до определенного момента, затем несколько секунд импровизировал и таким образом придумывал еще несколько тактов. Я сам написал одну композицию таким способом. В то время я работал на автомобильном заводе и иногда выкраивал несколько свободных часов. Тогда я сочинил «Drei Lieder» («Три песни для голоса-альта и камерного оркестра», 1950). Да, эта работа написана в технике додекафонии, но она, как и большая часть традиционной музыки, служила формой выражения чувств самого композитора. Я навсегда оставил такую музыку, меня в первую очередь волновала новая музыка и каким образом она создается при помощи новых методов композиторства.
ХУО: Тогда наступил переломный момент?
КШ: После «Перекрестной игры» я стремился всем своим творчеством, от работы к работе, воплощать в музыке то, что мной не изведано в самом себе. Каждая задуманная мной форма для очередной композиции давала мне простор для открытий и новой музыки. Так остается и по сей день.
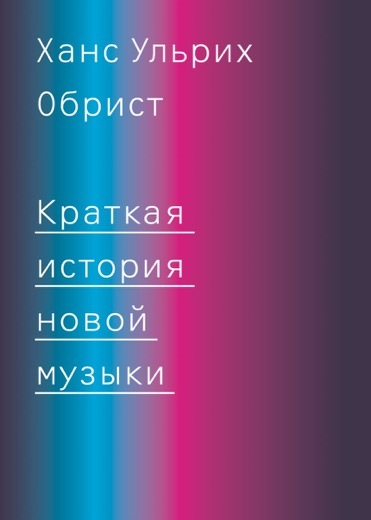
ХУО: Еще в раннем возрасте вы начали писать стихи. Можете рассказать о своих отношениях с литературой и о том, как вы от нее перешли к музыке? Меня особенно интересует диалог с Германом Гессе. Вы упомянули «Игру в бисер» (1943) и сказали, что эта книга сильно повлияла на ваше восприятие музыкальной нотации.
КШ: Мне кажется, Герман Гессе был знаком с додекафонией, как и Томас Манн, который в своем «Докторе Фаустусе» (1947) упоминал ранние 12-тоновые работы Арнольда Шенберга. В «Игре в бисер», вне всяких сомнений, есть отсылка к методу использования серийной техники при композиции музыкальных фигур, голосов, компонентов и интервалов — к тому факту, что из весьма ограниченного набора элементов по правилам «Игры в бисер» можно составлять бесконечное количество форм. К сожалению, в книге нет конкретного описания правил: чисел, характеристик, а лишь количество компонентов и та степень, в какой эта игра приближается к искусству. Тогда книга представляла бы реальный интерес. Не поверю, что гессевская игра имеет что-то общее с биологической «игрой в бисер», которой пользуется нынешняя генная инженерия для создания новых организмов. Гессе писал именно об абстрактном искусстве, числах и характеристиках. Позже мы использовали эти термины как параметры, чему я научился у физика [Вернера] Мейер-Эпплера. Я считаю, Гессе не имел в виду ничего более.
ХУО: Ваши искания тесно связаны с наукой. Я читал о ваших совместных исследованиях с Мейер-Эпплером. Связь науки и искусства, которую изучали, например, Дюшан и [Анри] Пуанкаре или Йона Фридман и [Вернер] Гейзенберг, — одна из основных тем моего цикла интервью. Не могли бы вы рассказать, какую роль наука играет в вашем творчестве?
КШ: После нескольких месяцев работы в Париже в студии Пьера Шеф- фера «Club d’Essai»[5], когда мои труды увенчались созданием этюда «Étude concrète» [1952, первое электроакустическое произведение Штокхаузена для магнитной пленки], в мае 1953 года я начал работать в Студии электронной музыки Радио Западной Германии. Студия на тот момент еще только формировалась, так что я стал свидетелем ее зарождения. Я размышлял над своими первыми электронными этюдами, но скорее над вопросами композиции, нежели над конкретным звучанием — насчет последнего у меня пока не было никаких идей. Тогда я стал посещать семинар Мейера-Эпплера по фонетике в Университете Бонна.
ХУО: Получается, вы прошли курс фонетики уже после парижского опыта?
КШ: Да, в Париже я больше занимался практической работой. Я ходил в Музей человека и записывал через микрофон звучание различных экзотических инструментов. Затем шел в студию конкретной музыки [«Club d’Essai»] и пытался выявить разницу между тембрами при помощи фильтров[6]. Это был мой первый практический опыт акустического анализа. На курсах фонетики в Университете Бонна я научился транскрибировать незнакомые языки с точки зрения акустики. Я узнал, как использовать нотацию, фонетическую транскрипцию, как фиксировать различные звуки. Исследование природы звука по сей день остается важной частью моей жизни. Конечно, именно об этом говорил Франсуа Бейль. Едва ли многие из знакомых мне композиторов и бывших учеников разбирались в свойствах звука. Сама идея того, что музыку можно не только петь и играть на уже существующих инструментах, но создавать собственные звуки для каждой новой композиции, что можно овладеть процессом синтеза звука, была совершенно нова и революционна. Она открывала неизведанные горизонты для всей западной музыки. Как следствие, и что очень важно, вокальная или инструментальная музыка перестали быть единственным инструментом для создания или восприятия классической музыки. Теперь звуки можно было обрабатывать, преобразовывать, переупорядочивать. Ни одно из моих произведений пространственной музыки — четырех- или многоканальных — еще не нашло своего идеального исполнения в реальном пространстве. Проекты специальных площадок могли бы заинтересовать некоторых архитекторов, но в мире заведено иначе. За последние 60 лет архитекторы в основном только воссоздавали традиционные концертные залы.
ХУО: Я хотел бы поговорить с вами о важности архитектуры в вашем творчестве и, возможно, затронуть музейную тему. Вчера я был в парижском парке Ла-Виллет на выставке «Пространственная одиссея: пространственная музыка с 1950 года» [2004], где представлены помещения и пространства, созданные архитекторами для музыки начиная с 1950-х годов, например павильон «Филипс» и концертный зал Ренцо Пиано для Луиджи Ноно. Вы сами в Осаке занимались проектированием помещения для исполнения музыки вместе с Фрицем Борнеманном[7] [Сферический концертный зал для Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, первый в мире сферический концертный зал[8]]. Расскажите, пожалуйста, об этой совместной работе.
КШ: Тогдашний министр экономики Западной Германии, Карл Шиллер, захотел произвести фурор на Всемирной выставке в Осаке 1970 года. Комитет предложил послать в Осаку солиста-клавесиниста, но потом люди из Министерства экономики предложили мою кандидатуру. Мы встретились с Фрицем Борнеманном в Дармштадте. Он привез с собой чертежи и макет. Макет, по правде сказать, имел форму обыкновенной коробки. Я сказал ему, что еще с 1956 года писал исследовательские статьи и вел дискуссии с архитекторами о принципах проектирования залов и пространств для полного окружения звуком. Сферическое помещение я описал еще в эссе 1956 года «Music im Raum» [«Музыка в пространстве», из книги «Texte zur Musik». Т. I. «Музыкальный фонд Штокхаузена», Кюртен, 1958]. Я сказал Борнеманну, что ему придется строить сферический зал, хотя в то время все скептически относились к этой идее, потому что отражение волн якобы искажает звук. Но это, по сути, совершенно неважно. Главное — правильно подобрать материалы. Борнеманн уже через несколько часов отказался от всех своих заготовок и согласился с моим предложением. Я пообещал написать произведение специально для этого зала. Слушатели, сказал я, должны сидеть «на экваторе», чтобы звук окружал их со всех сторон и даже снизу, также нужна специальная техника для регулировки направления звука. И такой концертный зал в итоге был построен.
ХУО: Он воплощал отказ от традиционного представления о концертных залах.
КШ: Классические концертные залы рассчитаны на монофоническую музыку, которая распространяется в одном направлении. До возникновения этой классической традиции в соборах исполняли церковную музыку, и людям казалось, что с верхних галерей звучит пение ангелов и раскатывается под сводами. Звук создавал ощущение, будто ты на небесах. Такое возможно было только с медленной музыкой. Музыка приближала тебя к раю во время молитвы. Затем рай опускался все ближе к земле, пока ты, наконец, не видел самих музыкантов. Вслед за возрождением греческой драмы при дворе Медичи классическую музыку стали исполнять в небольших комнатах на 40–50 человек. Потом появились сначала музыкальные залы для среднего класса и в конце концов концертные залы, которые в наши дни могут вмещать до 2000 человек. Тем не менее до сих пор преобладает монофоническое восприятие музыки. Едва ли можно добиться полифонии, попытавшись разнести отдельные направления звука в рамках единого монофонического целого. В архитектуре решения этой проблемы пока не найдено. Со временем концертные залы становятся все меньше приспособлены для восприятия полифонической музыки.
ХУО: Не могли бы вы больше рассказать о полифонических пространствах? Ведь вы спроектировали множество концертных залов, которые так и не были построены. Например, вы писали о восьмиугольном, почти круглом, помещении, где слушатели могли бы ходить, а не сидеть на одном месте. Каким должно быть устройство полифонического зала?
КШ: Главное, чтобы слушатели определенного произведения пространственной музыки имели возможность услышать его с разных точек. У меня было несколько идей на этот счет. К примеру, установить сиденья на специальной платформе и легко регулировать их направление при помощи гидравлической системы и механизма под полом платформы. Подобный замысел был реализован еще в начале 1950-х, в одном из помещений Зала Бетховена в Бонне, где дают концерты традиционной музыки. После концерта пол можно опустить и за 3–4 минуты убрать все кресла, затем пол снова поднимается и помещение превращается в бальный зал. Есть прекрасный проект зала с круговой галереей по периметру с дверями, через которые заходят (и выходят) музыканты. Динамики там хорошо было бы разместить по кругу на разных уровнях, до самого зенита, как мы сделали на выставке в Осаке. Верхние желательно расположить так, чтобы музыка доносилась с максимально возможной высоты. Я написал несколько «октофонических» произведений, в которых звук распространяется вертикально и по диагонали от потолка к полу, и наоборот, и по всевозможным спиральным траекториям, благодаря четырем парам динамиков в углах под потолком на высоте около 12 метров и четырем парам динамиков в нижних углах на высоте порядка полутора метров. Такое расположение позволяет исполнять октофонические произведения, в которых направление звука прописано с такой же точностью, как высота и длительность нот, громкость и тембры. Скорость и направленность звука играют очень важную роль в такой музыке. Если для нее нет подходящих залов, значит, ее просто нельзя услышать. Я верю, что однажды музыка будет определять архитектуру, а не как то было вплоть до настоящего времени, когда ты вынужден писать музыку для тех залов, которые строят архитекторы.
ХУО: Та же проблема касается музеев. Экспонаты должны определять форму музеев, а не подстраиваться под них.
КШ: Это все подразумевает наличие энтузиазма у власть имущих — администрации города, членов политических партий,— а не только у тех, кто по служебным обязанностям отвечает за культуру, чего мы нынче решительно не наблюдаем. Я не знаю ни единого политика, которого хоть немного интересовала бы серьезная музыка. Очевидно, заниматься развитием музыки никто не имеет желания. Я прожил уже немало и за долгие годы дал огромное количество интервью и написал множество статей о практических условиях, в которых было бы целесообразно исполнять музыку. С конкретными описаниями расположения мест для слушателей и источников звука. Но это не возымело никакого эффекта, поскольку ни один известный архитектор так и не взялся воплотить мои замыслы. Борнеманн и тот совсем недавно спроектировал концертный зал в Берлине, который не приспособлен даже для стереофонического звучания [Немецкая опера, Берлин].
ХУО: В Осаке вы еще сделали в зале звездное небо с динамиками-кометами, установленными вокруг платформ для посетителей.
КШ: Во всем зрительном зале было звездное небо с программным управлением. Снаружи здание напоминало планету — голубая сфера, которая выделялась на фоне остальных павильонов. Каждый день мы давали до 11 концертов моих произведений. В общей сложности выступал 21 музыкант, каждый из которых выходил на сцену один или два раза в день. Для меня это была уникальная возможность, какой мне с тех пор больше не выпадало. Базовое пространство для концерта представляло собой плоскую платформу с источниками звука вокруг, сверху и снизу кресел аудитории. На свете и правда есть композиции, которые просто необходимо воспроизводить посредством нескольких каналов. Они дают публике совершенно особый опыт восприятия, который не имеет ничего общего с процессом прослушивания музыки в обычном концертном зале.
ХУО: Вы наглядно продемонстрировали это, когда переделали Зал Бетховена в Бонне. Музыка [«Fresco. Wandklänge zur Meditation» / «Фреско. Звуки стен для медитации», 1969][9] словно превратилась в музейную выставку, где можно переходить от экспоната к экспонату.
КШ: Традиционно принято играть концерт по определенной программе. Слушатели приходят на нее, и только. В Вене есть дома музыки, в которых одновременно проходят концерты камерных оркестров в малых залах и симфонических — в больших. Я же в Бонне старался наполнить живой и проигрываемой через динамики музыкой все доступные помещения: репетиционную комнату, главный зал, фойе. Я реализовал идею «концерта-прогулки» («Wandelkonzert»). В программе так и значилось. Публика могла прогуливаться по фойе и слушать музыку, иногда заходить в залы и слушать программу там. В других залах тем временем выступали как солисты, так и целые ансамбли. Такая форма открытого действия, когда зритель может выбирать, на мой взгляд, крайне удачна, и ее с тем же успехом можно применять на выставках. Мне кажется, в будущем станет привычной практикой одновременно предоставлять публике выбор программ, концертов исполнителей и пространственных композиций. Нынешний кризис индустрии звукозаписи может привести к подъему совершенно иной музыкальной культуры. Например, в концертных залах больших городов музыку будут исполнять круглые сутки. Я предлагал нескольким немецким городам, в частности Кельну и Мюнхену, проекты, аналогичные программе в Осаке. В то время я задумывал построить концертный зал на крыше крупного универмага, но для организаторов стоимость реализации проекта в миллион марок в год оказалась слишком высокой. Посетители универмага могли бы время от времени заходить в комнату, где играла бы интересная и необычная музыка, но им не дали такой возможности. Сейчас я снова столкнулся с подобной проблемой. Работа над «Светом» закончена, и у меня часто спрашивают, каким образом его следует исполнять вживую. Я отвечаю: «Желательно в семи залах на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, но в одном здании». «Свет» состоит из семи композиций, по одной на день недели, и каждая несет свою тему, свою музыку, требует особых исполнителей и длится разное время. В идеале слушатель должен иметь возможность приобщаться к частям «Света» так, как он сам пожелает.
ХУО: Как будто он в музее?
КШ: Именно. «Свет» состоит из семи частей, которые соотносятся по-разному: как семь элементов, семь цветов. Она разделены на воду, землю, воздух, гелий, спокойное пламя свечи, всепожирающий огонь, спектральный свет — иными словами, на разные области человеческого восприятия, которые должны смешиваться друг с другом в семи залах. Так, мне пришло в голову, что в зале «Понедельник» для зрителей можно установить фонтаны, во «Вторнике» обустроить музей земли, железа и оружия — в общем, добавить в каждый зал некий информационный элемент. Нужно сделать так, чтобы людям это было очень интересно с образовательной точки зрения. Использовать принцип Диснейленда, только с миссией более интеллектуальной, нежели просто развлечение. Я ничего не имею против юмора, однако важно, чтобы люди не только смеялись, но могли испытать трепет. И, главное, почувствовать тягу к новым возможностям в их жизни. Я хотел бы, чтоб такой комплекс воспитывал мужчин и женщин будущего.
ХУО: Это место — ваша утопия?
КШ: Нет, я просто хочу, чтоб его построили. У меня есть детальные идеи касательно размера залов и их оснащения. Я нарисовал план для местности за моим домом — сейчас там только пустые луга. От проезжей части должен вести туннель к многоэтажной подземной парковке, откуда посетители на лифтах поднимаются в великолепный парк. Семь залов теряются в деревьях и кустарниках. Необязательно, чтобы в них всех одновременно что-то происходило, но части «Света», например, можно исполнять одну за другой. В лучшем случае действо должно происходить во всех семи залах одновременно, но это уже зависит от финансовых возможностей.
ХУО: Отсюда мы переходим к вашему утверждению, что в будущем музыку будут исполнять в основном на открытом воздухе, как, например, ваше произведение «Sternklang» («Звучание звезд», 1971).
КШ: В парках Берлина, Мюнхена, Ла-Рошели, Шираза, Бирмингема и близ Флоренции мы устанавливали сцены с динамиками, спрятанными в деревьях. Конечно, большую часть моей пространственной музыки можно играть на открытом воздухе, если в распоряжении имеется тихое место вдали от дорог и самолетов. Мне посчастливилось дать семь невероятных концертов «Сириуса» в монастыре Санта-Кроче во Флоренции. Над головой было звездное небо, четыре солиста играли в северной, южной, восточной и западной частях клуатра, а динамики располагались по кругу над ними. Ощущения были совершенно иные, нежели в концертном зале или соборе. Подобная музыка рождает особенные эмоции. Она обладает удивительной силой приближать человека к тому, что незримо глазом, ибо она сама незрима. Музыка повествует о незримом. Людское восприятие мира в наше время настолько сосредоточено на его визуальном аспекте, что почти никто не может слышать, ощущать законы природы и красоту вселенной через звуки. Для этого требуется особая подготовка и руководство. По этой причине я считаю, что в музеях следует иногда выключать свет и играть музыку. [Виллем] Сандберг[10] три месяца делал так в Городском музее Амстердама. В установленное время дня выключался свет и звучала музыка. Несколько раз в день солисты исполняли определенные композиции, и их выступление передавалось через динамики во всех галереях музея. В некоторых залах музыку сопровождало особое освещение. Но главная мысль такова: закрой глаза и слушай, слушай, слушай. В мире, где главную роль играет слуховое восприятие, родится новый человек, который будет жить иначе и избавится от визуального плена рекламы.
ХУО: По-моему, очень интересно, что вы сотрудничали с Сандбергом. Расскажете, как возник ваш проект?
КШ: Сандберг часто приходил на мои концерты. Как-то раз он предложил свою идею: найти звукоинженера, установить в нескольких галереях Городского музея Амстердама аудиосистему и проигрывать через нее мои произведения. Через динамики можно было воспроизводить не только электронную музыку, еще было важное произведение «Unsichtbare Chöre» («Невидимые хоры», 1979) для восьми динамиков, расположенных по кругу. Мы решили, что для проекта лучше выбрать какую-нибудь не очень заметную выставку, желательно связанную некоторым образом с музыкой. Мы не хотели, чтоб это была шумная выставка популярного современного искусства. Сандберг был полон энтузиазма и добился разрешения для проекта. Он пригласил меня заняться им. Для открытия мы подготовили пять выступлений музыкантов, а в большом зале на первом этаже воспроизводили музыку через расположенные по кругу динамики. На протяжении последующих дней в больших галереях в разное время проходили несколько получасовых концертов. Закончив работу над «Светом», я приступил к новому проекту под названием «Klang» («Звук», 2004–2007). Для меня это те два явления в жизни, благодаря которым мы можем выйти за пределы обычного мировосприятия. Я имею в виду «Свет» не только с точки зрения оптики, но в его космическом значении, ведь ритмы Вселенной, в которой мы живем, определяются Солнцем, планетами и Луной. Цикл «Звук», над которым я планирую работать ближайшие годы, состоит из 24 часов. Я напишу музыку для каждого часа в сутках. Будет музыка для 3 часов утра, для 5 часов вечера. По моему замыслу, для «Звука» нужно здание, в котором можно, как в музее, ходить по разным залам и в каждом слушать определенную композицию. Я пришел к выводу, что семь дней недели не вызывают у людей четких ассоциаций. Это довольно странно, учитывая, что во время работы я исследовал значение дней недели в культурах разных народов, и значат они очень много — это касается и мироощущения, и одежды, и распорядка. Я живу в лесу, но при этом я слышу не просто тишину — я слышу звезды, самолеты тоже, к сожалению, птиц, зверей, но еще я замечаю, как мое тело меняется с каждым часом. В разные часы наиболее активны разные органы. Я постепенно открываю для себя, как человеческое тело, наш душевный настрой, наша чувствительность к космическим волнам меняются от часа к часу. У меня уже есть прекрасный план помещения для этого произведения, когда оно будет закончено. Тут в окрестности есть много подходящих площадок, и нужно, чтобы заинтересованные музыканты по часу исполняли на них соответствующие части произведения. В каждой комнате необходимо установить звуковую систему и придумать еще что-то для зрительного восприятия. Для чувственного восприятия музыки слушатели должны в первую очередь быть к ней неравнодушны. Нам понадобится создать целую новую культуру. Но сначала люди должны научиться слышать звук. Сейчас в Германии закрываются музыкальные школы, распускаются оркестры.

ХУО: Только сегодня вы говорили, что писали музыку. Но ведь вы известны тем, что принципиально отвергаете партитуры. Как же так? Как происходит «планирование» произведения?
КШ: Мой период отрицания партитур относится к 1967–1969 годам. Но даже в это время я писал и печатал музыку. Конечно, я записывал процесс. Без партитуры невозможно обнаружить ошибки. Ни в коем случае нельзя отделять композицию, записанную на бумаге, от ее исполнения вживую. По этой причине я провожу большую часть времени в студии и свожу свою музыку, как я делал, например, последние два месяца по восемь часов в день. Но это было бы невозможно без практики живых выступлений. Даже после шести недель репетиций «Engel-Prozessionen» [«Процессии ангелов», 2000, вторая сцена оперы «Воскресенье» («Свет»)] с хором в Хилверсюме и двух недель записи каждой из семи групп по отдельности я все равно потом еще больше месяца по восемь часов в день сводил записи в студии, регулировал баланс, синхронизацию и высоты нот. А хор пел очень хорошо. Идеальное качество и точное соответствие партитуре возможны только благодаря новому искусству звукового сведения. Звук, баланс — вот стандарты будущего. Живое выступление интересно с той точки зрения, что ты видишь музыкантов, их воодушевление или отсутствие оного в непосредственной близости. Что касается качества исполнения, то в будущем знающие люди будут в первую очередь сравнивать партитуру с музыкой, записанной в студии. Запись должна остаться в веках как максимально точная реализация этой партитуры. Иного пути в будущее нет.
ХУО: Если я правильно понимаю, то вы сначала экспериментируете, а потом уже — зачастую на основе записи — пишете партитуру?
КШ: Да, иногда я так делаю. Но многие работы я сначала писал на бумаге, а потом шел в студию, там дорабатывал их и уже после исполнения исправлял партитуру. На самом деле так бывает чаще всего. Особенно когда я использую традиционные инструменты — сначала я сочиняю, потом тщательно репетирую. Я никогда не предлагаю другим то, что не могу сыграть сам. А если требуется дирижировать, я сначала дирижирую сам и параллельно вношу правки. И вношу немало. Последующие корректировки вносятся на стадии сведения, как последние два месяца было с «Процессией ангелов» и «Düfte — Zeichen» [«Запахи — знаки», 2003, четвертая сцена из оперы «Воскресенье» («Свет»)]. После внесения правок, касающихся динамики (в том числе длительностей, которые часто приходится менять после прослушивания композиции), ритма и даже произношения, если в композиции есть вокальные тексты, появляется еще одна партитура. Это уже третья ступень.
ХУО: Так сказать, партитура партитуры?
КШ: Да, именно, если вам угодно. Итак, сначала идет первая партитура, потом партитура репетиции, потом партитура сведенной записи. Только в ходе этого процесса я могу добиться идеального результата — таковы мои жизненные стандарты, когда речь идет о точности и красоте.
ХУО: Я видел, что вы часто используете цвет при записи партитур. Что означает цветовой код?
КШ: Цвета часто выделяют слои звука — по ним проще понять, какой инструмент ты сейчас читаешь. Я приведу пример. У меня много распечаток, вот одна из них. Композиция называется «Helikopter — Streichquartett» («Вертолет — струнный квартет», 1995), которую исполняют четыре струнника в четырех летящих вертолетах. Их игра транслируется через динамики. С самого начала работы я обозначал четыре струнных инструмента разными цветами, поэтому очень просто отследить, в каком месте партитуры какой звучит инструмент. При работе над второй партитурой, уже после живого исполнения, у меня была прекрасная возможность в точности зафиксировать результат при помощи электронного оборудования. Хорошо видны восемь слоев восьми разных цветов с точно указанным временным кодом, который соответствует реальному звучанию. Так же в партитуре обозначены вертолеты: 1) скрипка-вертолет; 2) скрипка-вертолет; 3) альт-вертолет; 4) виолончель-вертолет. Потом я еще раз записал партитуру целой композиции, разметив ее восемью цветами. Без обозначения цветом легко потеряться. Благодаря такой схеме в композицию проще вслушиваться. Можно выбрать небольшой кусок и слушать его раз за разом до тех пор, пока не разберешься, что именно в нем звучит.
ХУО: Вашу композицию с вертолетами впервые исполнили в Амстердаме, а затем в прошлом году в Зальцбурге состоялся еще один концерт.
КШ: Был настоящий кошмар! Это мероприятие организовал производитель безалкогольных напитков [Red Bull] в новом аэропорту [аэропорт Зальцбурга]. По случайности туда пригласили группу гринписовцев, и они подняли такой шум, что во время представления ничего не было слышно.
ХУО: Несколько месяцев назад Пьер Булез сказал мне, что не верит в законченные партитуры. Партитура, по его убеждению, всегда в процессе создания. Кейдж говорил об «открытых» партитурах. А что думаете вы?
КШ: Я беру на себя труд сопровождать свои произведения на протяжении множества концертов в течение долгих лет и только потом записываю партитуры. Такие партитуры практически безупречны. В данный момент, с середины декабря, я переписываю партитуру «Mixtur» («Микстура»), композиции, которую я сочинил в 1963–1964 годах. Я не то что переписываю ее, а скорее привожу в совершенно другой вид, основываясь на огромном количестве живых исполнений этого произведения. Мне хотелось бы представить ее новый вариант, «Mixtur 2003». По сути это та же старая «Микстура», только партитура теперь выглядит совсем иначе.
ХУО: Что вы думаете по поводу тишины в музыке? Несколько лет назад я брал интервью у философа Ганса-Георга Гадамера в Гейдельберге. Ему тогда был 101 год. Беседа вышла странная. Он захотел изложить свою точку зрения на интервью. Он очень долго говорил о том, что невозможно транскрибировать тишину. Без сомнения, тишина играет для вас важную роль. Каков будет ваш ответ Гадамеру — можно ли транскрибировать тишину?
КШ: Когда я преподавал композицию, я часто давал студентам задание вставить в композицию долгую паузу, отдельно обращая их внимание на важность того, с чем граничит эта пауза — какой звук раздается после и с чего она начинается. Она наступает внезапно, как разрез в плотном звуковом потоке, или музыка постепенно ослабевает перед ней? Очень важно то, что следует за паузой, говорил я. Любого композитора волнует вопрос, как долго пауза может длиться и при этом не нарушить течения музыки. Такую же задачу решает архитектор, когда рассчитывает длину моста Золотые Ворота. Конечно, при моем опыте я могу в определенной мере предвидеть, какое звучание должно предшествовать паузе, чтобы она оставалась «живой». Я имею в виду не только мощную волну энергии до нее, но оба «берега» паузы, до и после. Существует огромное количество разновидностей пауз. Если приводить простейшие примеры, то можно сочетать сильное начало и слабый конец, слабое начало и слабый конец, слабое начало и сильный конец, можно использовать глиссандо или резко обрубать по краям. Комбинаций бескрайнее множество. Меня сейчас особенно интересует этот вопрос — я закончил писать «Образы света» и теперь вношу правки в его распечатанную партитуру. Они написаны таким образом, что в нем присутствует эффект эха на двух музыкальных слоях. К примеру, за фигурой бассетгорна следует пауза. Пауза образуется в результате удвоения изначальной длительности фрагмента, фигуры, в то время как другой инструмент, флейта с кольцевым модулятором, вступает через некий меняющийся временной промежуток. Промежутка может не быть вовсе, или он может длиться до 26 восьмых триолей в заданном темпе. После него флейта повторяет фигуру бассетгорна, и задержка начинает постепенно сокращаться. В результате возникает множество пауз. У обоих инструментов. Конечно, фигура повторяется не всегда точь-в-точь. То же случается во втором слое, уже с другим эхо, и там паузы зависят от задержки между солистом-тенором, который поет текст, и трубой, которая повторяет фигуры с задержками от нулевой до максимальной. Паузы ключевым образом формируют восприятие произведения: возникает достаточно долгий промежуток между фигурой и ее повторением, сыгранным уже в другом контексте. Важно в «Образах света», как предполагает название, то, что повторения в двух двусоставных слоях воспринимаются не только на слух, но и визуально. Музыканты совершают шесть типов движений: если смотреть со стороны зрителя, они перемещаются слева направо во время крещендо, справа налево во время декрещендо, вверх по диагонали налево или направо вместе с нарастающей мелодической фигурой, резко прыгают вверх или сверху вниз одновременно с музыкальным скачком, еще есть круговые движения, то есть музыкант вращается вокруг своей оси. Их движения фиксируют камеры и специальное электронное оборудование и преобразовывают в композиционные визуальные элементы, контрапунктные или синхронные. Это расхождение визуально отражают семь основных составляющих жизни: силы природы и природные явления, растения, животные, строение космоса, созвездия, святые люди, преклонение. Художники по визуальным эффектам в первую очередь ориентируются на эти образы. Им не надо буквально иллюстрировать то, о чем поет тенор.
ХУО: Идет ли речь о комплексных системах? Вы рассказывали в интервью о том, как пришли от нот-«точек» к «группам» нот. Мне это напомнило о моих беседах с Хейнцем фон Ферстером, когда он говорил о Норберте Винере и кибернетике[11]. Можно ли сказать, что в «Образах света» мы наблюдаем сложные динамические комбинации петель?
КШ: Можно, но, очевидно, нужно определить, что имеется в виду под «петлями». Петля, казалось бы, означает точное повторение. Но здесь не совсем так. Земля совершает петлю — год, — вращаясь вокруг солнца, но не бывает двух одинаковых лет, кроме того, происходит эволюция. Важно понимать, что петля подразумевает нечто крохотное, как движение молекул в человеческом теле вокруг общего центра. Истинное значение имеют только рост или уменьшение, к которым приводят эти петли обратной связи.
ХУО: Очень интересны ваши отсылки к биологии. Вы цитировали биолога Виктора фон Вайцзеккера[12] в связи с биологическими часами организма.
КШ: Для меня главный тезис фон Вайцзеккера таков: не вещи существуют во времени, а время существует в вещах. Собственное время каждого элемента, в музыке в том числе, имеет невероятное значение. Его ни в коем случае не определяет время на часах, или время метронома, или даже время исполнения. Музыкальный организм рождается в воздухе и сам создает время для каждой своей составляющей. Он создает свое время, и мы следуем ему, в результате получая совершенно новый временной опыт. Вот чем особенна музыка: тем, что каждое произведение дает нам совершенно новое ощущение времени, и порой нас уносит так далеко, что мы покидаем границы обычного физиологического времени и времени тела. Человек забывает сам себя, потому что оказывается в ином измерении. Некоторая музыка способна произвести такой эффект.
ХУО: Марсель Дюшан однажды сказал, что созерцатель произведения искусства делает 50 процентов работы[13]. Вы согласны с ним?
КШ: Я не вдаюсь в психологию. Для меня нет разницы, сколько вносит от себя слушатель моего произведения в силу своего музыкального образования. Что важно для меня, так это то, что произведение может существовать и само по себе, без слушателя. Часто бывает, что я один по три-четыре часа репетирую в зале октофоническую композицию. Я не размышляю о том, как повлияет подготовка слушателей и их характер на восприятие работы. Работа существует. Важно, что произведения существуют, их звучание можно воспроизвести, и они есть не только на бумаге.
ХУО: Мы возвращаемся к теме помещений. Вы не только занимались концертными залами, но и проектировали здания, хоть и небольшие. Меня особенно интересует «дом в лесу», тот самый, в котором мы сейчас разговариваем, с двумя светлыми шестигранными комнатами из стекла, в котором отражается лес. Вы автор проекта этого дома?
КШ: В 1963–1964 годах я попросил Эриха Шнайдер-Весслинга [немецкий архитектор], ученика Нойтры [один из важнейших архитекторов-модернистов], построить для меня дом — это был его второй по счету проект. Я сам сделал много набросков и отдал их ему, а он уже создал макет. Макет состоял из нескольких прямоугольных комнат и балконов, выходивших на фасад. Тогда я предложил архитектору использовать шестиугольные помещения, как я делал тогда в музыке. Его ассистент нашел для меня шестиугольную чертежную сетку, при помощи которой я спроектировал дом. Мне нужно было придумать функции комнат.
ХУО: У вас есть еще один архитектурный проект, «Музыка для дома» [«Musik für ein Haus», коллективный проект семинара по композиции], реализованный в Дармштадте в 1968 году. Он мог бы существовать и по сей день. Было бы замечательно, если б сейчас можно было поехать в Дармштадт и увидеть его.
КШ: Это невозможно. В проекте участвовали двенадцать композиторов и множество исполнителей. Его суть заключалась в том, что музыку исполняли одновременно на нескольких этажах и передавали из зала в зал. На каждом этаже находился звукоинженер, который при помощи двух или трех регуляторов мог постепенно прибавлять или убавлять звук в динамиках в его зале. Иными словами, мы создали связь — иногда двустороннюю — между несколькими музыкальными помещениями. В подвале я установил оборудование для четырехканального воспроизведения четырех выступлений, проходивших в здании, через четыре динамика. Слушатели могли свободно ходить по залам. Исполнители, конечно, находились в отгороженной части, и посетители не видели их. А в подвале через динамики можно было послушать музыку из всех четырех залов сразу. Затея получилась интересная, но она требовала крайне тщательной подготовки с точки зрения композиции.
ХУО: Можно сказать: полифония как променад. Слушатель прогуливается бок о бок с музыкой.
КШ: В Бонне мы сделали нечто похожее, да и в Дармштадте у нас был аналогичный проект. В большом здании школы [Международная музыкальная школа Дармштадта] в нескольких холлах исполняли музыку дуэты. Посетители подходили к музыкантам, какое-то время слушали их, а потом шли к следующему дуэту. Очень интересно было внедрить в процесс исполнения физическое приближение к источнику звука или удаление от него. В прошлом году состоялась премьера моей новой работы «Hoch-Zeiten» [игра слов в немецком: «Свадьба» и «Высокие времена» для хора и оркестра] в Лас-Пальмас [в Зале Альфредо Крауса], а позже ее исполнили в Кельне [в Кельнской филармонии]. На ней публика тоже перемещалась. Это последняя часть «Воскресенья» из «Света», композиция для пяти хоровых групп на пяти языках с пятью оркестровыми группами. Пять оркестровых групп играют в одном зале, хоровые группы поют в другом, а между залами установлена связь через микрофоны и динамики. Семь раз звук из оркестрового зала звукоинженеры выводят в зал с хором, и семь раз наоборот, из зала с хором в зал с оркестром. Во время антракта группы менялись залами, но было бы лучше, если б публика переходила из зала в зал, а музыканты оставались на месте. Изначально я хотел сделать именно так, но в Кельне это оказалось невозможно, потому что один зал вмещал 1800 зрителей, а другой только 600. Очень интересно, что два зала полностью синхронизованы с помощью метронома, все пять каналов. В каждом зале пять групп поют или играют одновременно и в такт в своем темпе. Их синхронизирует дирижер, который слышит метроном в наушниках. То есть пять оркестровых и пять хоровых групп синхронно исполняли музыку в определенном временном интервале, чтобы не совпадали постепенные нарастания звука. Это был эксперимент с синхронизацией ансамблей, разнесенных в пространстве. Не обязательно, чтобы они оба были в Кельне. Я могу синхронизировать ансамбль в Кельне с ансамблем в Австралии или еще где угодно.
ХУО: На ваших архитектурных набросках присутствуют некие хроматические круги. Это, похоже, поворотные столы, а не концертные помещения.
КШ: В 1959 году для моей работы «Kontakte» («Контакты») по моему проекту сделали специальный стол. Посередине располагался динамик, от которого вверх поднимался кабель, а по краям на каждой стороне — четыре микрофона. Я вручную вращал стол с разными скоростями, до шести оборотов в секунду — по часовой стрелке и против — и записывал звук через микрофоны на четыре дорожки. Затем музыка воспроизводилась через четыре динамика. Впервые можно было услышать звук кругового движения в пространстве. Через двенадцать лет я заказал второй стол. Его модель все еще стоит в Немецком музее Бонна. Этим столом, тоже с динамиком по центру, можно было управлять дистанционно. Сложно себе это представить, но он мог вращаться со скоростью 24 оборота в секунду. Благодаря ему я смог включить новые слои звука в произведение «Сириус». Через восемь микрофонов я записывал звук из вращающегося динамика на восемь дорожек магнитофона, а затем проигрывал через восемь динамиков, расположенных по кругу, таким образом получался «вращающийся» звук. Скорость была огромная. Когда звук кружится настолько быстро, его движение теряет направление. Он неподвижно висит в воздухе, и даже легкое движение головы слушателя меняет весь обертоновый спектр вращающегося звука. Иначе говоря, слушатель может менять музыку движениями тела.
ХУО: Получается, это ваше изобретение?
КШ: Да. Даже первый эксперимент с вращением не имел до того аналогов. Шесть оборотов в секунду, которые совершает динамик, — это уже очень быстро. В таком темпе музыкант едва может играть.
ХУО: С одной стороны, вы изобретатель. Как композитор, вы изобретали инструменты и технические приемы вроде этого. В то же время вы вдохновляли других на открытия, так что вас можно назвать изобретателем изобретателей. Вспомнить только ваше влияние на Петра Зиновьева[14] и всю сцену синтезаторной музыки.
КШ: У Зиновьева, как вы знаете, была студия в Лондоне, и он несколько раз навещал меня в Кельне. Я был поглощен мыслями о создании так называемого синтезатора, который мы в дальнейшем и изобрели. Первый синтезатор собрал Гарри Олсон из Принстонского университета для Колумбийского университета в Нью-Йорке. Это была огромная махина с довольно ограниченными возможностями. На самом деле он сделал эту машину для Голливуда, чтобы имитировать звук традиционных инструментов.
ХУО: Он продолжил труды Оскара Салы?[15]
КШ: Сала больше работал в собственных интересах. Американцы просто хотели делать музыку и при этом не платить оркестру. Первые синтезаторы, к сожалению, не достигли убедительного звучания. Был один композитор, [Милтон] Бэббитт [первопроходец серийной и электронной музыки], который написал несколько этюдов на синтезаторе, но на меня они не произвели впечатления. Мы с Зиновьевым много обсуждали, какие необходимы параметры. Потом он собрал «Synthi 100». Я купил его для Студии электронной музыки WDR в Кельне и после нескольких лет работы использовал этот синтезатор при исполнении «Сириуса». Правда, что даже в нынешней версии «Сириус» несколько ограничен в тембрах из-за небогатых возможностей синтезатора в этом плане, но в остальном «Synthi 100» стал первым синтезатором, на котором можно было достичь настолько невероятных эффектов, в том числе изменения длительности и других временных параметров. Это событие имело огромную важность.
ХУО: Можно ли назвать «Свет» «совокупным художественным произведением» [Gesamtkunstwerk[16]]?
КШ: Не думаю, ведь я всего лишь создал зрительный ряд, который визуально отражает мою музыку, дополненный фантазией художниц по декорациям Гае Ауленти[17] и Марии Бьорнсон[18]. То же касается двух опер, поставленных в Лейпциге. Там сценой и костюмами занимался замечательный художник Йоханнес Конен. При работе он не просто руководствовался ассоциациями, но создал очень образный ряд, четко повторяющий музыкальные ходы. Масштабы его работы были таковы, что он заполнил весь временной код оперы «Пятница» из «Света» почти 500 световыми эффектами и идеально синхронизировал их с музыкой. У нас получилось очень тесное сотрудничество. Я уже предложил Центру искусства и медиатехнологий в Карлсруэ назначить Йоханнеса Конена ответственным за оформление моей новой работы «Образы света», которую в этом году должны поставить в городе Донауэшинген. Я пока еще плохо представляю, как он визуально воплотит семь сфер бытия, о которых я говорил раньше. Но важно, что ему нужно будет следовать за движениями музыкантов: их будут фиксировать камеры и современное оборудование для передачи видеосигналов и преобразовывать в визуальный ряд.

ХУО: Как известно, хореография начинает приобретать все больший вес в ваших работах. Играют ли тут роль фильмы? Вы упоминали Антониони. Вы когда-нибудь сотрудничали с кинематографом? Вашу музыку использовали в картинах или, может, вас просили написать саундтрек?
КШ: Три года назад братья Куэй использовали мою музыку [в коротко- метражном фильме «In Absentia» / «В отсутствие», 2000]. Для экспериментального кино он имел довольно большой успех. В нем 20 минут электронной музыки.
ХУО: То есть к кинематографу вы имеете только поверхностное отношение?
КШ: Да. Как я уже говорил, в жизни важнее приобретать слуховой опыт, нежели зрительный. Много раз я отмечал, что визуальные образы дают душе очень ограниченное пространство.
ХУО: По этой причине вы почти не сотрудничали с художниками?
КШ: Тэнгли был моим другом.
ХУО: Жан Тэнгли?
КШ: Да. Он создал многие свои произведения под непосредственным влиянием моей электронной музыки. Он приезжал в Кельн. Еще был Гарри Крамер [немецкий художник, представитель кинетического искусства, работал в начале 1960-х]. Я не знаю, до сих пор ли он известен. Он под впечатлением от моей музыки делал сложные вращающиеся скульптуры.
ХУО: Тэнгли известен куда больше.
КШ: Жан Тэнгли много времени провел со мной в Студии электронной музыки. Еще несколько раз приезжал Ив Кляйн. Особенно в начале своего «синего» периода, когда он покрасил в синий цвет несколько роялей в Кельне. Все должно было быть синим. Потом он пришел ко мне и сказал, что я просто обязан написать синюю музыку для его выставки…
Примечания
- ^ Шри Ауробиндо (1872–1950) — индийский йог, философ, поэт, участник индийского движения за независимость. Создал учение об интегральной йоге, процессе единения всей сущности, и материи, и духа, с Высшим разумом. Главный литературный труд — философский опус «Жизнь Божественная», сборник текстов, датируемых примерно 1900 годом (издан обществом «Ашрам Шри Ауробиндо»).
- ^ «Формульная композиция» и «суперформульная композиция» — техники, возникшие из более ранних серийных техник Штокхаузена. Формула заключается в узнаваемой мелодической структуре, которая составляет ядро композиции и часто звучит в ее начале. Затем она изменяется, развивается и вырастает в целую композицию.
- ^ Штокхаузен был важной фигурой в так называемой дармштадтской школе, основанной композиторами — участниками Международных летних курсов новой музыки в Дармштадте в период с начала 1950-х до начала 1960-х годов. Штокхаузен был одним из многих выдающихся лекторов на этих курсах. Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте (Internationale Ferienkurse für Neue Musik), основанные вскоре после окончания Второй мировой войны, стали местом встреч композиторов, исполнителей, музыкантов, представителей саунд-арта и студентов музыкальных училищ.
- ^ Франк Мартин — швейцарский музыкант и композитор (1890–1974), в последние три года Второй мировой войны написавший «Голгофу», ораторию для пяти солистов-вокалистов, хора, органа и оркестра, вдохновленную «Страстями по Матфею» Баха.
- ^ Студия французского теле- и радиовещания «D’Essai» была основана Пьером Шеффером в 1942 году и в 1946 году переименована в «Club d’Essai».
- ^ Тембр — характеристика музыкальной ноты, которой отличаются источники звука, то есть голоса или музыкальные инструменты: струнные, духовые, перкуссия. Тембр создает разницу между звуком одного инструмента и другого при одинаковой высоте и громкости ноты. Тембр формируется из-за разных частот, и при помощи аудиофильтров эти частоты можно усилить или ослабить, что повлияет на тембр и, соответственно, на звучание.
- ^ Фриц Борнеманн (1912–2007) — немецкий архитектор, имел большое влияние в Берлине в 1950-х–1960-х годах. Известен проектами бетонной архитектуры, в частности зданий современных театров. Среди его работ — Американская мемориальная библиотека, Немецкая опера в Берлине, театр «Freie Volksbühne» («Театр свободного народа») и музейный центр Берлин-Далем. Он спроектировал павильон Германии для Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, первым разместив выставочную зону под землей, тем самым отказавшись от широких архитектурных жестов.
- ^ Спроектированный на основе художественного замысла Штокхаузена и технической концепции Студии электронной музыки Технического университета Берлина, Сферический концертный зал стал первым в своем роде. Это была временная конструкция, в которой зрителям представили современные тенденции электронной музыки от таких композиторов, как Бернд Алоис Циммерман, Борис Блахер и Штокхаузен (а именно композицию «Спираль», которая в течение выставки была исполнена 1300 раз). Места для аудитории располагались на звукопроницаемой сетке чуть ниже центра сферы. Звук электроакустических композиций распространялся в трех измерениях из 50 групп динамиков, расположенных по всему пространству сферы. Штокхаузен добился трехмерного живого звучания благодаря изобретенной им десятиканальной вращающейся мельнице и сферическому сенсору, собранному в Берлине.
- ^ Здесь Ханс Ульрих Обрист ссылается на «Fresco. Wandklänge zur Meditation» («Фреско. Звуки стен для медитации»), композицию для оркестра, написанную Штокхаузеном в качестве «музыки для фойе» («Wandelmusik») для ретроспективной программы, на которой в течение вечера музыку Штокхаузена исполняли одновременно в трех помещениях Зала Бетховена в Бонне. Композиция длится около 5 часов.
- ^ Виллем Сандберг (1897–1984) был куратором и директором Городского музея Амстердама до 1962 года. Он организовал выставку работ Мари Бауэрмайстер, параллельно с которой в течение дня Штокхаузен дирижировал исполнением своей электронной музыки (2–25 июня 1962).
- ^ Хейнц фон Ферстер (1911–2002) работал с Норбертом Винером над развитием кибернетики. Норберт Винер, основоположник кибернетики, также одним из первых начал исследовать стохастические процессы и шум.
- ^ Виктор фон Вайцзеккер (1886– 1957) — немецкий биолог и автор первых теорий медицинской антропологии и психосоматический медицины, в частности, он ввел понятие «Gestaltkreis» («круг формы», 1933). Он развил концепцию органической материи, на корню расходившуюся с принятыми в то время представлениями о физиологии и биологии. Он предположил, что на органические процессы влияет среда, в которой народится организм, поэтому при их оценке необходимо учитывать пространственные и временные условия.
- ^ В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес-Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
- ^ Петр Зиновьев — британский изобретатель, основатель Студии электронной музыки в Лондоне и создатель портативного синтезатора «VCS3» (1969). См. интервью в этой книге, стр. 138.
- ^ Оскар Сала (1910–2002) — немецкий физик и композитор, работавший с траутониумом, монофоническим электронным музыкальным инструментом, который создал Фридрих Траутвайн в Берлине примерно в 1929 году. Этот инструмент считается предшественником синтезатора.
- ^ Термин, введенный композитором Рихардом Вагнером в середине XIX века. Этим понятием Вагнер стремился описать «искусство будущего», которое виделось ему как синтез, объединение всех видов искусств. (Прим. пер.)
- ^ Гае Ауленти (1927–2012) в послевоенной Италии была одной из немногих женщин-архитекторов и художников-оформителей. Она известна проектами по оформлению интерьера, в том числе Музея д’Орсе и Галереи современного искусства в центре Помпиду в Париже, а также дворца Палаццо Грасси в Венеции и, среди недавних работ, Музея азиатского искусства в Сан-Франциско. В 1991 году Японская ассоциация искусства наградила ее Императорской премией. Среди ее проектов как театрального декоратора известна работа над оперой «Четверг» из цикла «Свет» Штокхаузена, чья премьера состоялась в 1981 году в миланском Дворце спорта в постановке труппы театра Ла Скала.
- ^ Мария Бьорнсон (1949–2002) известная художница по костюмам и декорациям для театра, оперы и балета, обладательница множества премий. Всемирное признание получила, в частности, благодаря своей работе над мюзиклом «Призрак оперы». Она создала оформление сцены для оперы «Четверг» из цикла «Свет» Штокхаузена в 1985 году в лондонском театре Ковент-Гарден.




