Трендспоттинг-2015
Каким будет современное искусство в 2015 году. Прогноз «Артгида».
 Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |  Екатерина Иноземцевакуратор Музея современного искусства «Гараж» |
 Николай Палажченкокуратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» в бизнес-школе RMA |  Валентин Дьяконовкуратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» |
Каждый год «Артгид» обращается к представителям разных поколений и профессиональных страт нашего художественного сообщества, чтобы совместными усилиями описать набирающие силу тренды и ответить на вопросы о том, какими в ближайшем будущем будут формат коммуникации между представителями художественного сообщества, формы выставочной деятельности, специфика взаимоотношений искусства и власти, самочувствие арт-рынка и так далее. В начале 2015 года в редакции «Артгида» встретились куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева, руководитель образовательного проекта RMA «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» Николай Палажченко, арт-критик Валентин Дьяконов и шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова, чтобы обсудить, каким будет наступивший год для русского современного искусства.

Мария Кравцова: В начале каждого года «Артгид» обращается к экспертам, чтобы попытаться совместными усилиями сделать прогноз развития нашей сферы в наступающем году и предсказать, каким будет 2015 год для русского современного искусства и художественного сообщества. Итак, первый вопрос: можем ли мы уже сегодня назвать ключевой фактор в развитии искусства этого года?
Екатерина Иноземцева: Мне кажется, что ключевой фактор этого года — финансовый. В 2014 году произошло много агрессивных событий — от военных действий на территории Украины до падения цены на нефть и курса рубля в ноябре–декабре, — и поэтому весь 2015 год мы будем расхлебывать довольно существенные последствия событий года 2014-го. В ближайшем будущем нас ожидает перегруппировка институциональных, музейных и кураторских сил, заморозка всех бюджетов на искусство, что повлияет, прежде всего, на крупные институции и получающие деньги из госбюджета музеи. Запланированные на 2015 год большие выставки-блокбастеры, скорее всего, будут отменены или приедут в Россию в сильно редуцированном виде, а кураторы будут озадачены тем, как из своего чего-то сделать что-то такое, чтобы пришел зритель.
Николай Палажченко: Тут следует добавить и то, что бюджеты сократились не только за счет падения курса рубля практически в два раза, но и за счет того, что со стороны государства происходит прямое секвестирование расходов на культуру. Так что сейчас государственные институции могут рассчитывать на получение 20–30% от тех бюджетов, что они получали еще год назад. Но и это еще не все. Уже упомянутые события 2014 года вымели из нашей сферы практически всех спонсоров. Последствия этого тоже понятны. Но мне все же кажется, что этот кризис может обернуться и положительными изменениями в искусстве. Действительно, выставок-блокбастеров станет меньше, но, как говорится, с бюджетом все могут, а вот без бюджета справляются только самые талантливые. Поэтому в 2015 году лучше других будут чувствовать себя те институции, что смогли за предыдущие годы собрать сильные в интеллектуальном и операционном смысле команды, а также те, у которых выстроены взаимоотношения с публикой. Но бюджеты бюджетами, а вот что касается непосредственно искусства, то для меня совершенно очевидно, что поколение, которое я называю «художники до 35 лет», окончательно вошло в силу — сегодня именно оно олицетворяет современное искусство. При этом все сложнее и сложнее найти активно действующего, не почивающего на лаврах художника поколения 50–60-летних, который сохранил бы трезвый ум, твердую память и не работал бы в режиме ксерокса, делая то же, что и десять, и двадцать лет назад.
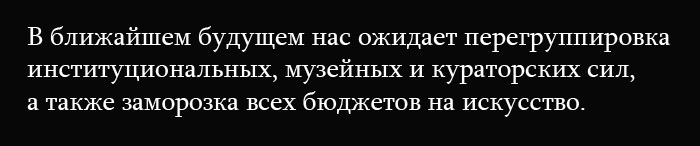
Е.И.: Да, для нового поколения художников сейчас наступил удачный момент. У них есть все возможности для того, чтобы сделать что-то на больших значимых площадках, но мне все же кажется, что большинство из них сейчас станет участниками различных программ резиденций за рубежом…
Валентин Дьяконов: …потому что, как ни парадоксально это звучит, гранты и резиденции стало гораздо проще получить после того, как внешняя и внутренняя политика России достигли определенного градуса. Западу снова стала интересна Россия, снова заработала старая добрая идея гуманитарной миссии, которая сводится к тому, чтобы вывезти, накормить, поселить и дать возможность проявить себя оппозиционно настроенным русским. Но сегодня речь идет далеко не только о политических разногласиях с правительством — все чаще встает вопрос, как заниматься своим делом без того, чтобы вступать в противоречие с уровнем всеобщей визуальной грамотности. И если раньше можно было утешаться тем, что официоз и индустрия рекламы построены на каких-то примитивных, но в целом смешных решениях, то теперь все максимально упростилось — и телепропагандисты, и рекламщики бьют в одну точку с точностью дятла. И наша задача — уже не просто критика, а противостояние, намного более агрессивная позиция.
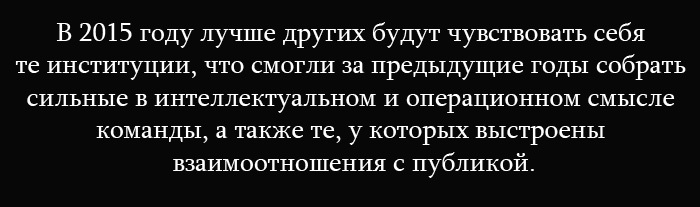
М.К.: Как в новых условиях будут строиться взаимоотношения со зрителем в этом году?
Н.П.: Для многих профессионалов и зрителей искусство сегодня снова становится формой мягкой внутренней эмиграции. Чем дискомфортнее вокруг нас, тем выше интерес к искусству, музыке, театру. И если в тучную середину нулевых этот интерес был прежде всего обусловлен интересом к арт-рынку (который еще и подавался под соусом «фэшн»), то сейчас, как мне кажется, этот интерес качественно изменится. Он станет более содержательным. Будет расти роль культуры как поля непрямого интеллектуального обмена внутри общества, а также будет расти ответственность художников и кураторов за высказывание. Когда мы были на фиг никому не нужны или были «модными», то могли нести любую чушь, и все это снисходительно воспринималась публикой. Но сегодня требования публики к культурному продукту выросли: люди начинают по-другому относиться к искусству, публика не просто на что-то безучастно смотрит, а ищет ответы на свои вопросы. Я вижу, как люди начинают переосмыслять вышедшие за последние годы книги, например, того же Владимира Сорокина, который раньше проходил по ведомству стеба, а сейчас считается чуть ли не пророком, и как они ходят на выставки, в театр. Недавно я наблюдал, как на выставке коллекции Костаки люди по-новому смотрят на авангард, находят в нем двойные и тройные смыслы, которые художники туда и не вкладывали или вкладывали, но совершенно другие.
Е.И.: Есть на выставке Костаки и еще один эффект, который достигается за счет ее экспозиционных особенностей. Экспозиция сделана так, что ты оказываешься в специальном пространстве, которое считывается как полускрытое и полуразрешенное. Ты понимаешь, что «официальное» осталось там, за пределами выставки, а ты сейчас находишься в специальной зоне.
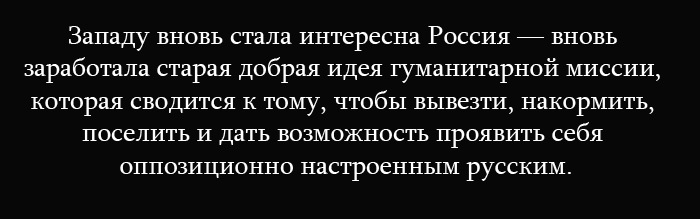
М.К.: Я вас слушаю и думаю о том, что мы все это уже проходили в 1970-е.
Н.П.: Отчасти. В 1970-е годы уровень знания художников об окружающем мире был довольно высоким, и люди активно интересовались буквально всем: что происходит в Восточной Европе, на Западе, вокруг них самих. Но количество информации, которое могли они получить, было ограничено, но тем ценнее эта информация была. К тому же, в то время уровень интереса и профессиональной дискуссии был очень высоким, и дай бог, чтобы он вырос и сейчас в условиях тотального избытка информации.
В.Д.: Тут мы подходим к еще одному из трендов. Для нашего искусства возвращение в соцлагерь могло бы стать очень полезным опытом. Много лет назад была выставка «Москва–Варшава», а скоро в «Гараже» откроется выставка из коллекции музея современного искусства Любляны. У нас всегда догоняющее развитие, и то, что должно было бы быть сделано 15 лет назад, наконец случится в этом году. Один из трендов этого года — осмысление, я надеюсь, подробное и полное, того, чем же была Восточная Европа после Второй мировой войны, что там происходило с искусством. Это интересная тема, которая долго не была актуальной, поскольку мы всегда были ориентированы на то, чтобы иметь представительства на Западе, хотя было бы намного проще и одновременно сложнее наладить максимально тесные связи со своими непосредственными соседями.
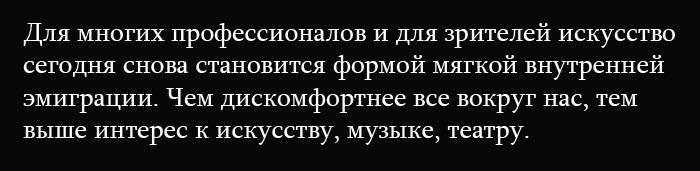
Н.П.: Вопрос только в одном, как мы будем осмыслять этот опыт — с позиций метрополии или с точки зрения анализа наших упущенных возможностей?
В.Д.: Есть несколько ответов на этот вопрос. Один дает Екатерина Деготь в своих последних выставочных проектах. Она говорит, что есть определенный советский опыт — опыт провала, которым мы все равно будем делиться, пока не умрем, потому что этот опыт сам по себе очень интересен. Но мне намного интереснее было бы вместе с Восточной Европой подумать об экзотизме того, чем мы занимаемся, и о том, где мы находимся из-за языка, особенностей развития и крайне усложненных отношений с Западом, а также из-за территориально-исторических особенностей. Как оказалось после истории с Крымом, вопрос земли и территории очень волнует наших сограждан, и это сейчас тема крайне интересна.
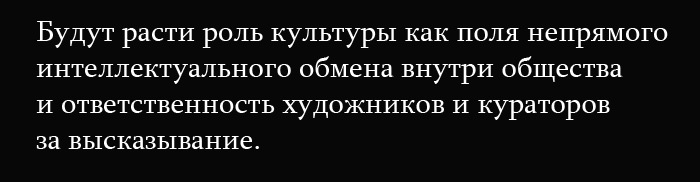
М.К.: Еще один вопрос, который мы традиционно задаем в начале каждого года нашим экспертом: каким будет формат взаимоотношений в сообществе? С одной стороны, несмотря на все стоны «Все пропало, Гельман уехал и вообще…», в последние годы мы с невероятной скоростью плодились и размножались — и это можно сказать не только о художниках, но и о представителях других профессиональных страт. Сообщество разрослось, но при этом максимально атомизировалось. Мы живем и работаем в пределах небольших комфортных кружков, а при столкновении с представителями других кружков делаем вид, будто у нас плохое зрение: просто потому, что не хотим даже поздороваться друг с другом на вернисаже. Естественно, это «плохое зрение» распространяется и на профессиональное сотрудничество. Я употребила слово «кружок», но нет, с полным правом в оборот можно ввести слово «секта», художественное сообщество превращается в набор различных сект. По-вашему, это негативный процесс?
В.Д.: Случилась маленькая, но отчетливо ощущаемая в городе Москва гуманитарная катастрофа. В регионах ее не видят, поскольку там никто никогда ни на что не рассчитывал, все осуществляли постепенное, шаг за шагом, строительство. В регионах очень медленно шло выстраивание отношений со зрителем, приручение этого самого зрителя, его прикармливание, которое совмещали с попытками просунуть ему одновременно с чем-то незамысловатым и симпатичным что-то более сложное и так далее. У нас же — благодаря тому, что развивались СМИ, росли музеи, формировалось новое образование, — была полная иллюзия того, что в нашем прекрасном мире есть все необходимые компоненты и связи для того, чтобы машина современного искусства без помех ехала дальше. 2014 год положил конец этим иллюзиям, мы не проскочим без потерь через тяжелые времена, прежде всего, потому, что мы оказались неспособными найти общий язык даже друг с другом. Конечно, и раньше не было иллюзий, что даже в маленьком арт-мире есть хотя бы общий уровень представления о текущих задачах и инструментах их решения. Но сегодня разница в образовании и степени мотивации иногда вызывает невиданное ранее острое чувство тщеты всего сущего, особенно на фоне мелких и крупных психозов в обществе в целом. В искусстве наступает время адекватной оценки границ, и будем надеяться, оно окажется не лавированием и двоемыслием в поисках теплого места, а постановкой решаемых вопросов, о которых все забыли.
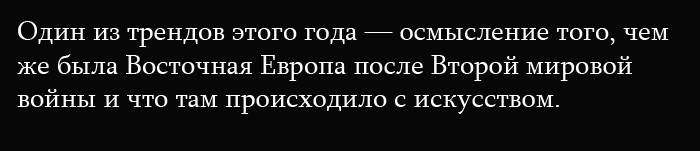
Е.И.: Ситуация сплоченности или осознание себя частью единого сообщества возникает только тогда, когда возникает внешний враг. И в этот момент, по дарвиновскому закону, нужно победить разногласия внутри, чтобы сплотиться перед лицом внешнего врага. Но что касается теперешнего состояния сообщества, я не могу сказать, что «распалась цепь великая». Просто появилось много разных форм жизни.
В.Д.: Когда в конце 1990-х — начале 2000-х я начинал писать про искусство, у меня была мечта о том, чтобы сообщество стало гораздо более атомизированным, чем оно было на тот момент. Я приходил на выставки, смотрел, слушал и понимал, что совершенно невозможно прорваться сквозь тесную практически родственную связь между всеми ключевыми и неключевыми персонажами. Насмотревшись на это, я мечтал, чтобы арт-мир был максимально атомизирован в том смысле, что каждый деятель просматривался со всех сторон, то есть у него не было пуповины, ведущей на кухню к Шифферсу или Гройсу. И надо сказать, что моя мечта в какой-то степени осуществилась. Хотя если понимать атомизацию как состояние просматривания со всех сторон, то она не наступила, однако большие подвижки к этому сделаны. Но есть и еще один момент. Для меня всегда было очевидно, что в любом сообществе должна быть игра сил, должны быть плохиши, люди, занимающиеся бабочками, люди, разбившие вазу, люди, бегающие как сумасшедшие, и что там дальше в классификации Борхеса. И с этой точки зрения сейчас все прекрасно, мечта сбылась! Помнишь, Маша, в середине 2000-х годов мы мечтали о том, чтобы у нас была академическая и институциональная критика? Есть Саша Новоженова, Глеб Напреенко, Женя Абрамова! Сбылось! Еще была мечта, чтобы появилась нормальная арт-школа. Сбылось! У нас есть Школа Родченко, и ее последний выпуск — нормальный европейский выпуск (хотя и людей немного, и степень технической подготовки невысока). А премий-то сколько! И все вроде бы нормально и вроде бы мне нравится. Но… Именно сейчас в молодежных политизированных средах сектантство как принцип вводится заново на новых положениях, которые, однако, очень напоминают старые. С одной стороны, все это мне очень нравится, ведь люди объединены общей проблематикой, а с другой — они тоже включают в свой круг людей по принципу той самой старой доброй кухни, где достаточно минимальных признаков «своего», чтобы пройти фейс-контроль. Одновременно меня несколько пугает, что эти люди столь же неадекватно представляют себе степень развития нашей цивилизации, что и большевики в 1917 году.
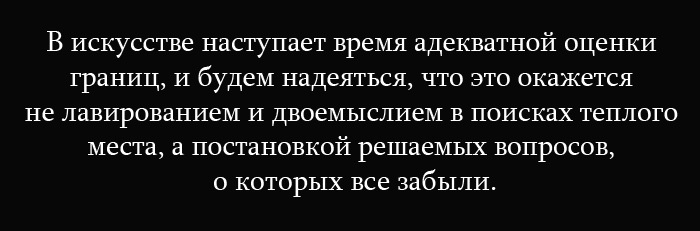
Н.П.: Уже в 2009-м мне стало очевидно, что художественное сообщество как некое единое целое перестало существовать. Отдельно существуют рыночная тусовка, тусовка «модная», тусовка «молодых художников», отдельные тусовки Ольги Свибловой, Марата Гельмана (признан иноагентом Министерством юстиции РФ, включен в список террористов и экстремистов), института «База», Гоши Острецова и так далее до бесконечности… Но что действительно сегодня важно, так это то, что именно сейчас формируются новые тренды и новые смыслы — и за этим нужно следить. Поколение сменилось. Новому поколению уже нет никаких скидок, которые обычно даются на молодость. Старому же поколению тоже отныне нет никаких скидок за заслуги: вы, ребята, либо работайте ксероксом, повторяя сделанное вами же двадцать лет назад, и вяло продавайтесь на полудохлом арт-рынке, либо пытайтесь делать что-то новое и тогда останетесь по-настоящему современными художниками. Нам всем сейчас нужно смотреть по сторонам, запоминать новые имена, внимательно следить за тем, что делают эти новые художники, и учить тот художественный язык, который они сейчас вырабатывают. И язык этот, по моим наблюдениям, созерцателен и медитативен, иногда даже романтичен. Современный художник, с какими бы медиа он ни работал, занимает позицию отстраненного наблюдателя. Это характерно и для Ирины Кориной, которая появилась на художественной сцене еще в конце 1990-х, и для Таисии Круговых, и для Миши Моста, и для Романа Сакина, и для Аслана Гайсумова, и для Егора Кошелева.
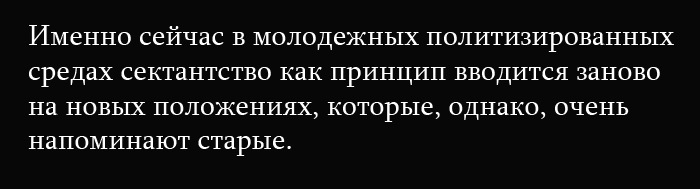
М.К.: Так мы подошли к еще одному вопросу, который мы каждый год задаем экспертам: как изменится, если изменится вообще, художественный язык? Какие медиа будут чаще всего выбирать художники, какую технику, материалы, цвета будут предпочитать?
Е.И.: Одной из черт нового поколения является то, что его представители невероятно разнообразны медийно. Они хотят все попробовать и в этом желании не могут остановиться. Это не поиск «своего», это не универсальность, это именно бесконечное движение от одного к другому.
В.Д.: Но есть и обратный феномен, когда два старых друга Анатолий Осмоловский и Виктор Алимпиев переходят под знамена фигуративности, причем фигуративности рукотворной. Интересно, что Осмоловский уже давно начал это движение к фигуративу, но именно сейчас он налепил невероятное количество того, что укладывается в определение доступного для понимания искусства. Конечно же, все это не связано с установками сверху. Это просто такой дух времени — чем меньше веры в человека как в набор универсальных навыков человечности, тем больше фигуративного искусства. Пусть хоть люди на картинах и скульптурах будут, если в жизни они так редко попадаются.
Е.И.: Продолжая твою мысль про невольное следование Zeitgeist: я недавно была в Санкт-Петербурге, где, естественно, посетила выставку Фрэнсиса Бэкона в Эрмитаже. Стоя посередине экспозиции, я осознала, что передо мной такое разрешенное современное искусство, которое к тому же репрезентируется в формате «диалог с классикой». Как бы фигуративная как бы живопись Бэкона легитимизирована большой историей искусства. Актуализация всего этого началась с «Манифесты 10». Еще до открытия в этот проект было вложено столько эмоциональной, ментальной и прочей энергии, его ждали, обсуждали, надеялись, а все закончилось… почти ничем.
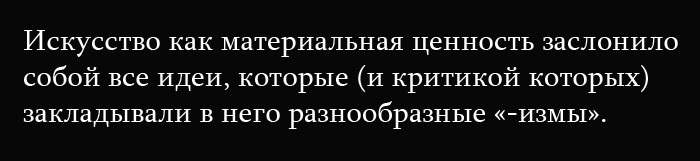
М.К.: А перед Новым годом в Министерстве культуры был ликвидирован отдел изобразительного искусства, который негласно называли «отделом современного искусства». Собственно, существование этого отдела на фоне довольно агрессивной в последнее время риторики министра Мединского было последним напоминанием о происходившем два-три года назад, когда Минкульт развивал проекты ДНК в регионах, выделял гранты на поддержку современных форм культуры, включал в экспертные советы не только лояльных власти людей и всячески намекал на свою готовность активно действовать в сфере современного искусства. И, надо сказать, в тот момент общественность отвечала Минкульту взаимностью, все почти поверили в то, что нормальные взаимоотношения с властью возможны. Какова будет форма взаимодействия с государством в 2015 году, после того как и словами, и конкретными действиями нам дали понять, что власть не хочет иметь никакого дела с «этим вашим современным искусством»?
Н.П.: Какое государство?! Давайте еще обсудим то, как на современное искусство влияют фазы Луны! На моей памяти внятной государственной политики в сфере современного искусства не существовало, и, по-моему, совершенно очевидно, что широко проанонсированное несколько лет назад сближение государства и современного искусства из режима ожидания так и не перешло в режим реальных действий. Да, был заложен первый камень будущего музея современного искусства где-то на Ходынском поле, но вообще-то строительство отдельного стадиона никак не влияет на изменение ситуации в национальном спорте, как не может повлиять на ситуацию в искусстве строительство очередного музейного здания. Строительство музея, деятельность Общественного совета, деятельность специального отдела в Минкульте — все это, с точки зрения реальных процессов в искусстве, курьезы и маргиналии, деятельность которых обсуждать нет никакого смысла. Напрямую на ситуацию в искусстве, кроме, разумеется, художников, влияют интеллектуалы, частные меценаты, журналы, галереи (далеко не все, кстати) и косвенно, сами о том не подозревая, — западные институции. И если даже государство вдруг соберется политической волей и резко так, целеустремленно и собрано, захочет поддержать современное искусство, быстро у него все равно ничего не выйдет, поскольку отсутствует инструментарий такой поддержки. Для этого, помимо желания, должны быть специальные сложные механизмы, на формирование которых с нуля нужно потратить лет 7–10 лет, не меньше. Сложные, многоуровневые вещи — от образования до международной репрезентации. Как и в случае с кино, балетом и футболом.
В.Д.: Все процессы, которые сейчас происходят в этой сфере, укладываются в давнюю традицию полной бескультурности правительства. Все трагедии русских и советских художников 1930–1950-х были трагедиями людей, чаще всего осужденных за деятельность, никак не связанную с тем, чем они занимались в своих мастерских. Тебя сажали, например, за вымышленный шпионаж, а не за то, что ты сочинял и изображал. Поэтому надо признать наконец, что искусство в нашей стране — это вещь, которую намеренно исключают из политических, экономических, социальных и психологических процессов русской жизни. (За частичным исключением литературы и слова вообще, потому что их проще цензурировать.) Это всегда надстройка, нечто неважное и ненужное; и что характерно — само искусство до конца не осознает и, как следствие, не может сформулировать, в чем заключается его важность для зрителя. Вернее, все разговоры о зрителе, чаще всего пессимистичные, — это проекция собственной растерянности на анонимные массы. Но при этом надо признать, что все магические механизмы, например, механизм красного угла у нас до сих пор прекрасно работают. А искусство как раз там и находится, в красном углу, безо всякой связи с историей, политикой, идеологией. Если мы работаем в традиционном искусстве, будь то Третьяковка, Эрмитаж или ГМИИ им. А. С. Пушкина, мы думаем, что у того искусства, которое мы показываем или изучаем, есть какая-то гуманитарная миссия. Но нет, этой миссии давно нет, она испарилась, поскольку искусство это старое — и оживлять его погружением в социально-сексуально-политический контекст тут никто не собирается. А у современного искусства что? Зачем оно нужно здесь, в этой громадной проруби с красным углом? И надо понимать, что это не локальный вопрос, возникший благодаря Минкульту, казакам, православным активистам и отсутствию арт-рынка. В богатых странах Европы и в США только и обсуждают роль искусства в эпоху рыночного бума последних лет, и обсуждают критически, видят в нем игрушку элит, далекую от идеалов демократии и всеобщей доступности. Искусство как материальная ценность заслонило собой все идеи, которые (и критикой которых) закладывали в него разнообразные «-измы». Возможно, сам факт показа чего-либо, не служащий каким-то общественным ценностям (образованию, экологии, равенству, в конце концов), уже дело прошлое — бессмыслицы и абсурда хватает в интернете, постмодернистские шутки тоже легко передаются по вай-фаю, да и от восторга перед уникальностью, о которую столько копий поломано, пора отказываться. То есть чисто технические вопросы, связанные с дематериализацией искусства благодаря высокому уровню информированности, накладываются на экономику и политику. И в наших условиях необходимо заново определить, в чем, так сказать, химическая формула произведения искусства после ХХ века, из каких компонентов оно состоит. Возможно, формулу придется изменить.




